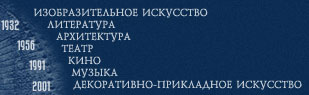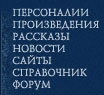БАЙРОН И РУССКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Собираясь в свое первое путешествие на Восток, в июне 1809 г., Байрон писал матери: "Что касается денежных дел, я разорен, - пока не будет продан Рочдейль, - а если из этого ничего путного не выйдет, я поступлю на службу, русскую или австрийскую, -может быть даже турецкую, если мне придутся по душе тамошние обычаи. Передо мною открыт весь мир, Англию же я покидаю без сожаления". Вероятно, это первое дошедшее до нас упоминание Байрона о России. Конечно, замысел Байрона поступить на "русскую службу" не следует понимать всерьез: контекст письма свидетельствует лишь, что в том настроении, в каком оно было написано, для Байрона, в сущности, было вполне безразлично, где бы ни жить, лишь бы не в Англии, в той стране, с которой у него уже назревал конфликт.
Первое пребывание Байрона на Востоке ближе познакомило его с Россией. В разных местах Турции и даже Албании и Греции, еще находившихся под турецким владычеством, он встречал разнообразные следы русского дипломатического влияния и русско-турецких военных столкновений. Все это нашло многостороннее отображение в его путевых впечатлениях, в его письмах и поэтических произведениях, например, в авторских примечаниях к "Восточным поэмам".
По возвращении в Англию Байрон, конечно, не менее внимательно приглядывался к развертывавшимся тогда в Европе политическим событиям и часто обращал свои взоры на обширную северную империю. Международное значение и политический вес России возрастали на его глазах. Байрон был также свидетелем довольно резких изменений ее взаимоотношений с Англией между 1805-1812 годами: англо-русский союз, затем Тильзит и "континентальная блокада", новое сближение двух держав в период общей войны с Наполеоном были для Байрона, как и для английских современников, событиями, мимо которых он не мог пройти равнодушно. Впрочем, если Вальтер Скотт радовался гибели наполеоновской армии и приветствовал появление союзников в Англии, то Байрон в победах коалиции европейских держав уже предвидел торжество наступающей реакции. Когда в июне 1814 г. Александр I, высадившийся в Дувре вместе с королем прусским Фридрихом Вильгельмом и многочисленной свитой, поселился в Сент-Джеймском дворце и тотчас же открыл вереницу пышных празднеств, торжеств и приемов, Байрон мрачно приглядывался к этим гостям и стоял в стороне от лондонских увлечений русским императором. Хмуро и с явным недоброжелательством писал он 14 июня 1814 г. обо всем этом Томасу Муру, столь же оппозиционно настроенному и против принца-регента и против Священного союза, представителей которого официальный Лондон встречал так восторженно. А через несколько дней Мур получил от Байрона и стихотворную эпистолу, в которой речь идет о той же лондонской злобе дня, но в еще более язвительных выражениях:
The papers had told you, no doubt, of the fusses.
The fetes, and the gapings to get at these Rousses,-
Of his Majesty's suite, up from coachman to Hetman,
And what dignity decks the flat face of the great man...и т. д.
(Газеты, без сомнения, сообщили вам о суматохе,
о празднествах и о желании глазеть на этих русских.
На свиту его величества, от кучера до гетмана (Платова)
И о том достоинстве, которое преисполняет плоскую физиономию этого великого мужа...)
Среди многочисленных лиц, сопровождавших Александра I во время пребывания его в Лондоне, был, в частности, кн. Петр Борисович Козловский (1783-1840), один из блестящих представителей русской дипломатии и увлекательный салонный собеседник. В Англии Козловский находился не впервые. Назначенный русским полномочным посланником в Сардинию, он отправился туда морем, через Швецию и Англию, в ноябре 1812 г.; по-видимому из-за военных событий и затруднительности морских переездов в зимнюю пору он задержался в Англии почти на полгода. Как сложилась его жизнь в это время мы, к сожалению, знаем очень мало; известно лишь, что уже в январе 1813 г. Козловского видели на балах и других общественных увеселениях в знаменитом английском курортном городе Бате, где он пользовался известной популярностью в светских кругах. Так, жена английского дипломата Джорджа Джексона (1785-1861) писала мужу в Берлин 19 января 1813 г.: "Среди "знатных иностранцев" мы имеем князя Козловского, который в последнее время оживляет батское общество. Он - русский и едет в Сардинию в качестве посланника. Конечно, блестящие успехи русской армии бросили некоторый свет и на него и сделали его героем вечера, как если бы он сам был победоносным генералом, особенно у барышень, хотя я не могу сказать многого в пользу его наружности". Не менее популярным был Козловский в последующие месяцы в Лондоне, что видно, в частности, из выпущенных здесь остроумных карикатурных листов, на которых он изображен (такова, например, гравюра Дж. Крукшенка, изображающая толстяка Козловского, танцующего с женой русского посланника в Англии Ливена,- Дарьей Христофоровной, женщиной худой и высокой; эта гравюра озаглавлена художником: "Долгота и широта Санкт-Петербурга" и датирована: 18 мая 1813 г.).
В августе 1813 г. Козловский уже уехал из Англии; в июне 1814 г. снова появился здесь в свите Александра ], а в октябре того же года был вызван на Венский конгресс. Впоследствии, с конца 20-х годов, Козловский еще несколько раз бывал в Англии, после своей отставки (в 1821 г.) большею частью живя за границей, в различных странах Западной Европы. Летом 1827 г. на водах в Эмсе с Козловским встретился А. И. Тургенев. В письмах Тургенева к брату, Николаю Ивановичу, не раз идет речь о Козловском и о том интересе, который он проявлял к осужденным декабристам. "Вчера кн. Козловский тронул меня, говоря о тебе, - пишет, например, А. И. Тургенев 22 июля 1827 г. - Зимою сбирается он в Англию и хочет быть с тобою". В бумагах А. И. Тургенева сохранилась также задушевная характеристика Козловского, написанная может быть после смерти князя, из которой явственно чувствуется, как близок он был к декабристам и передовым русским литераторам 20-х годов. В этой характеристике есть, в частности, такие слова: "Я любил Козловского с моего детства, встречался с ним и мыслил вслух везде: в Лондоне, в Эмсе, на берегах хладной и гранитной Невы, - в виду мрачной крепости - везде встречались и мысли наши, и сердце билось одним чувством к человечеству, к России. Не смею, потому что не вправе, оценить в Козловском его гения в математике, в языкознании, в каком-то врожденном ему европеизме; но радуюсь тем, что сердце мое всегда понимало его и угадывало, что мы часто верили друг другу в чувствах наших - вслух, в нашем соучастии к людям, в нашем сострадании к их слабостям, в нашем негодовании к их гнусным угнетателям...". Когда в середине 30-х годов, после двадцатидвухлетнего отсутствия, Козловский явился в Россию, он сразу же сделался одной из примечательнейших фигур петербургского "большого света".
"В нем был и герцог Версальского двора, и английский свободный мыслитель, - писал П. А. Вяземский,- в нем оттенялись утонченная вежливость и несколько искусственные, но благовидные приемы только что угасшего общежития, и независимость, плод нового века и нового общественного порядка. Вместе с тем, европейское обращение в круговоротах жизни не стерло с него русской оболочки, но сохранил он русское добродушие и несколько свойственное ей русское легкомыслие"; он "везде перебывал, многое и многих знал и видел, если не всегда деятельно участвовал в событиях, то прикасался к ним и, так сказать, около них терся. Такие условия сберегают и застраховывают человека от исключительности в мнениях и суждениях". Вяземский подчеркивал свойственный Козловскому в высокой степени талант рассказчика, дар устной речи. Он мог быть и тонким салонным causeur'ом, и долго и убежденно, с полным знанием дела, спорить на философские и научные темы. "Все отрасли, все принадлежности, составляющие дар слова, были ему доступны, и он владел ими в равном совершенстве. Он готов был говорить о математике и о точных науках, к которым имел особенное призвание, развивать в живых и блестящих картинах достопримечательнейшие исторические эпохи, проникать в их тайный смысл; готов был преподавать мимоходом полный курс классической литературы, особенно римской, и с этих высот опускаться к частным рассказам о современных личностях и к сплетням парижских и лондонских салонов <...> Стоило только в разговоре прикоснуться к той или другой струне, и симфония мыслей и слов изливалась то с величавой стройностью, то с прихотливой игривостью...". Столь же пленялся умением Козловского полностью завладевать вниманием слушателей А. И. Тургенев, и сам бывший опытным салонным собеседником; внимая рассказам "неистощимого" Козловского, А. И. Тургенев писал, что его "ум и сведения и без того делают болтовню его не болтовнёю, а блистательным монологом. Он богат идеями и воспоминаниями и размышляет просто". Современники единодушно отзываются о Козловском как о человеке просвещенном, отличавшемся смелостью мнений, удивительной памятью, восприимчивым и парадоксальным умом. "И Жуковский полюбил ум и сердце Козловского...- писал А. И. Тургенев брату Николаю, - и Жуковский журил его за многое, но отдавал справедливость европейским мнениям его и чувству справедливости, кажется, врожденному в Козловском". Пушкин увлечен был им так же; как и Вяземский. "Козловский был бы для меня провидением, если бы он захотел сделаться раз навсегда писателем", - признавался Пушкин П. Я. Чаадаеву в 1836 г. Но к литературному труду этот увлекательный собеседник не чувствовал никакого призвания. "Он мне говорил однажды, - вспоминал Вяземский, - что письменный процесс для него тягостен и ненавистен". Прямым призванием его была живая устная речь. Более молодым, состоя поверенным в делах в Кальяри (в Сардинии), он составлял "Историю господства генуэзцев в Крыму", но этот труд так и остался в рукописи. Несколько политических брошюр Козловского, в свое время опубликованных, имели весьма малое значение. Однако Пушкин все же сумел убедить его написать несколько статей для своего журнала; в первом и в третьем томах "Современника" за 1836 г. появились две статьи Козловского: "Разбор математического ежегодника" и "О надежде"; кроме того, в шестом томе того же журнала напечатана была его статья о паровых машинах. В свою очередь, Козловский, классик по своим литературным вкусам, настойчиво убеждал Пушкина переводить Ювенала и, прежде всего, дать новый перевод его излюбленной ювеналовской сатиры "Желания". Мы знаем, что Пушкин незадолго до смерти действительно готовился к этому труду. В черновом наброске Пушкин писал ему по этому поводу: Ценитель умственных творении исполинских.
Друг бардов английских, любовник муз латинских,
Ты к мощной древности опять меня манишь...
В этом отрывке еще не обращало на себя внимания исследователей начало второго стиха. Что Пушкин имел в виду, называя Козловского "друг бардов английских"? Склонность Козловского к английской поэзии или связи его с английскими поэтами? Есть основания думать, что Пушкин скорее должен был разуметь конкретные, житейские знакомства Козловского с одним или несколькими представителями английской поэзии, чем его увлеченность британской музой вообще. Характеризуя литературные вкусы Козловского, Вяземский говорил, что "в отношении литературных мнений он был не только строгий классик, но едва ли и не закоснелый старовер"; "За исключением сочинений исторических, политических и сочинений, до точных наук относящихся, мало того, что он не уважал литературы новейшей, но и отказывался от нее, и не признавал ее"; "Разве только два из новейших поэтов были изъяты им из его остракизма: Байрон и Пушкин", - прибавляет Вяземский. Хотя, по указанию того же Вяземского, Козловский провел "довольно много времени в Англии", у нас есть все основания предполагать, что Пушкин, называя Козловского "другом бардов английских", имел в виду, - притом, вероятно, со слов его самого, - именно личное знакомство его с Байроном. Подтверждение этому мы находим, прежде всего, в переписке Байрона, тогда как о знакомстве Козловского с другими английскими поэтами нам ничего не известно.
Байрон упоминает Козловского в одном из писем (1814 г.) к своему издателю Джону Меррею в таком контексте, который заставляет считать, что он не только знал Козловского, но и дорожил его мнением. Речь идет об издании первых "Восточных поэм" и о тех нападках, которые они уже вызвали в Англии. Это был период творческого расцвета и славы Байрона на его родине, но репутация его уже вызывала многие тревожные подозрения в великосветском обществе и весьма недвусмысленные намеки в печати, - он уже слыл "бесстыдным вольнодумцем"; попытки друзей наладить его отношения с принцем-регентом потерпели неудачу, и принц продолжал служить для него предметом злобных шуток и издевательств; в образах героев его восточных поэм уже пытались узнать многие черты самого автора. Байрон принимал независимую позу и драпировался в свой "гарольдов плащ". 4 февраля 1814 г. Байрон писал Меррею по поводу состава томика, включавшего "Корсар": "Поступайте, как хотите, но не дозволяйте устранить эти стихи, чтобы мне не ставили в вину, что я испугался. Меня столько же заботит "Курьер", сколько князь или вообще все князья, за исключением Козловского".
Это место отличается многими неясностями; для нас бесспорно лишь одно, что Байрон сочувственно и дружественно выделяет имя князя Козловского из общего числа всех князей, ради которых он не хотел бы что-либо менять в своей поэме, опасаясь их осуждений и порицаний. Имя Козловского в различных изданиях переписки Байрона, вплоть до новейших, было искажено (у Т. Мура, например, оно было транскрибировано - "Korlorsky", поэтому оно долго не обращало на себя внимания биографов Байрона). Издание его писем под редакцией Протеро (R. E. Prothero), текст которых выверен был по подлинным рукописям, впервые дало правильное чтение, но комментатор ничего не мог сообщить по поводу приведенной цитаты и ограничился сообщением небольшой биографической справки о кн. П. Б. Козловском, "русском посланнике в Турине, впоследствии жившем в Риме". О пребывании Козловского в Англии редактору издания также ничего не известно; он замечает лишь, что Козловский был "в частых сношениях с графом Воронцовым, русским посланником в Лондоне, и что их переписка была издана по-русски". Добавим от себя, что несомненно Козловского Байрон упомянул еще раз в XVII-й строфе 7-й песни "Дон Жуана", где его имя искажено и стоит в ряду других, также искаженных, имен:
Sherematoff and Chrematoff, Koklophti,
Koclobski, Kourakin, and Mouskin-Pouskin...
Письмо Байрона к Меррею написано в феврале 1814 г., следовательно знакомство его с Козловским произошло еще до прибытия последнего в Лондон в июне этого же года в свите Александра I. Но в июне 1814г. они могли встретиться вновь в Лондоне Мы, к сожалению, ничего не знаем о том, где и при каких обстоятельствах могла состояться эта их новая встреча, но вполне вероятно, что Козловский виделся с Байроном в одной из великосветских гостиных, куда наперебой приглашали русских гостей из императорской свиты и где Козловский должен был быть одним из самых желанных собеседников. "В 1814 г., - рассказывал много позднее сам Козловский маркизу Кюстину, - я сопровождал императора Александра в Лондон. В эту эпоху его величество оказывал мне честь довольно большим доверием, и я обязан очевидной его благосклонностью ко мне многим знакам милости со стороны принца Уэльского" (т.е. тогдашнего принца-регента и будущего короля Георга IV).
В каких салонах Козловский тогда побывал, с кем и на какие темы вел беседы, мы не знаем, но любопытно, что в своей книге маркиз Кюстин, рассказывая о совместной поездке с Козловским морем в Петербург в июле 1839 г., вспоминает рассказы Козловского, приводящие нас к Байрону и к одной из его поэм того же 1814 г. Кюстин пишет, что, находясь вблизи эстонского берега, в виду острова Даго, Козловский рассказал присутствовавшим на палубе корабля об одном из прежних владельцев этого острова, бароне Унгерн-Штернберге, еще жившем во времена его детства, "который мог послужить прототипом более, чем для одного героя лорда Байрона" (а pu servir de modele a plus d'un heros de Lord Byron). Человек умный и образованный, объездивший Европу, Унгерн-Штернберг, по словам Козловского, возвратился в Петербург при Павле I, но вскоре, без всякой видимой причины, впал в немилость и должен был покинуть двор; тогда он "заперся на о. Даго, владельцем которого являлся <...> и поклялся в смертельной ненависти ко всему человечеству, чтобы отомстить императору, воплощавшему в его глазах весь род людской". "На своем уединённом острове барон вдруг проявил горячую любовь к научным занятиям, и чтобы, по его словам, с полной свободой отдаться им, он воздвиг в своем поместье высокую башню. Он назвал ее своей библиотекой и устроил наверху башни фонарь, со всех сторон застекленный, подобно светящемуся маяку. В полночь, когда барон знал, что его маленький сын со своим наставником уже спят, он запирался в своей библиотеке и зажигал ярко горящий фонарь, издали похожий на сигнал. Этот обманчивый маяк должен был вводить в заблуждение корабли, проходившие мимо острова, что и было целью коварного барона. Предательский маяк, воздвигнутый на скале среди бушующего моря, привлекал к себе капитанов плохо знакомых с местными берегами, и несчастные, обманутые фальшивой надеждой на спасение, находили свою смерть. Когда судно было уже близко к гибели, барон спускался к берегу, садился в лодку с несколькими ловкими и опытными людьми, которых он специально держал для своих ночных предприятий, и перевозил на берег спасшихся от кораблекрушения. Здесь, под покровом темноты, барон убивал их и затем, при помощи своих слуг, грабил погибающий корабль. Все это он делал не столько из корысти, сколько из любви ко злу, из неутолимой страсти к разрушению. Однажды воспитатель его сына открыл страшную тайну... Замок был окружен со всех сторон войсками, прежде чем барон успел принять меры предосторожности. Он хотел обороняться, но слуги изменили ему. Барон был схвачен, доставлен в Петербург и осужден императором Павлом I на вечную каторгу в Сибири, где и умер. - Когда кн. Козловский закончил свой рассказ, все воскликнули, что барон Унгерн-Штернберг был из числа Манфредов и Лар (etait le type des Manfred et des Lara). "Это так и есть, - отвечал князь, не боявшийся парадоксов,- потому-то Байрон и кажется нам таким маловероятным, что он брал свои модели из действительности (dans le vrai); в поэзии реальность никогда не естественна".
Для нас не существенно в данном случае то, что Козловский заинтересовал своих слушателей одной исторической легендой, не имеющей к тому же фактического подтверждения; нам важна несомненная стилизация, приданная этой легенде в его передаче. Исторический барон Карл Карлович Унгерн-Штернберг (1730-1799), генерал-адъютант русской службы и крупный эстляндский помещик, часть владений которого действительно расположена была на о. Даго, был сторонником Петра III, впал в немилость после переворота 1762 г. и лишь после этого выехал за границу. Вопреки утверждению Козловского, Павел I вернул его из изгнания и приблизил к себе. Поэтому особенно любопытно, в тех очертаниях, которые приданы были этой легенде Козловским, что многое действительно напоминает нам героев байроновских поэм и, прежде всего, Лару. Лара - такой же, как и Конрад в "Корсаре", "муж одиночества и тайны" (the man of loneliness and mystery), который, избегая человеческого общества, целые дни проводит в твердынях своего феодального замка; о преступлениях, омрачавших его совесть, мы можем только догадываться. Кстати, и очертания этого замка, и воображаемая страна, в которой происходит действие, эта "страна борьбы" (a land of strike), с ее слегка намеченными контурами средневековья, всегда смущали критиков Байрона в отношении ее географической локализации .
Судя по имени героя, ее относили к Испании, но другие имена (Оттон, Эццелин) звучат но по-испански и ведут нас то в Италию, то на европейский север. Гобхауз, читавший "Лару" еще до выхода ее из печати, упрекал Байрона в нарушении исторической правды, так как рабов, о которых говорится в поэме, в Испании не существовало. "Только имя героя испанское, место же действия - не Испания, а луна", - писал Байрон Меррею 24 июля 1814 г. и, таким образом, признал фантастический, сбивчивый характер локально-исторической окраски своей поэмы. Упоминание Байроном Козловского в связи с "Корсаром", вероятность их встречи в Лондоне в 1814 г., в тот самый период, когда Байрон писал "Лару" (май и июнь 1814 г., издана в августе), по его собственным словам, "в разгар балов и всяких сумасбродств, по ночам, по возвращении из маскарадов и раутов" (письмо к Муру 8 июня 1822 г.), и делают, как мне кажется, достаточно вероятным, что Байрон из уст Козловского мог слышать тот самый рассказ, который приведен выше в записи маркиза Кюстина. Мы не решались бы утверждать, что он положен в основу "Лары", но некоторыми чертами стилизованного эстляндскогв барона, поклявшегося в вечной ненависти к человеческому роду, Байрон все же мог воспользоваться для "Лары", как и упоминанием о высокой башне для научных занятий в одиноком замке, недоступной для окружающих и слуг, о которой идет речь и в "Манфреде".
2. Адмирал П. В. Чичагов в гостях у Байрона.- Воспоминания Джона Гобхауза об этой встрече у Байрона
Либеральный, вольнодумный русский вельможа из свиты императора Александра, старый дипломат, посвященный во все закулисные тайны и русского двора и осуществляемой им политики, кн. Козловский был для Байрона интересен, конечно, не только его случайным рассказом, знакомство с которым автора "Корсара" и "Лары" мы только что предположили. Вопросы политической современности никогда не заслонялись для Байрона проблемами этического и философского порядка. Живой интерес к текущему политическому моменту, к событиям недавнего прошлого владел им всегда. Поэтому и в первые годы после своего отъезда из Англии, в годы мучительного нравственного кризиса, пережитого им в период разрыва с женой, газетной травли и отхода от прежних друзей, Байрон сохранил интерес к политической жизни континентальной Европы, к которой он стоял теперь ближе, чем живя в Англии. Итальянский и греческий период его жизни, занятые уже и непосредственным участием Байрона в национально-освободительной борьбе, особенно должны были повысить его внимание к русской дипломатии, международным отношениям, внутреннему состоянию русского государства. Но уже и раньше дела Священного союза не переставали его волновать. За Аахенским конгрессом 1815 г. он следил столь же внимательно, как впоследствии за Веронским; судьба Наполеона глубоко волновала его и заставляла часто возвращаться к мыслям о войне 1812 г. в России. Стендаль, рассказывая о своем первом знакомстве с Байроном в Милане в 1816 г., вспоминал, как Байрон дважды расспрашивал его - участника и очевидца войны 1812 г., совершившего вместе с войсками Наполеона поход па Москву, - о подробностях этой кампании и отступления и даже "подверг его перекрестному допросу на этот счет". С тем большим интересом Байрон должен был расспрашивать очевидца кампании с русской стороны, когда представился случай; обстоятельства этой встречи Байрона известны нам лучше, чем предполагаемые свидания и беседы с Козловским.
В воспоминания друга Байрона, Джона Гобхауза (впоследствии лорда Броутона, 1785-1869), занесен рассказ о визите к Байрону адмирала Чичагова. Дело происходило в сентябре 1816 г., когда Байрон вместе с Гобхаузом жил в Швейцарии, на вилле Диодати, расположенной на берегу Женевского озера. При всей своей краткости, рассказ Гобхауза содержит весьма интересные подробности об этой встрече и беседе английского поэта и русского адмирала.
Павел Васильевич Чичагов (1769-1849), сын знаменитого русского адмирала, победителя шведского флота, воспитан был в морском корпусе, но образование свое, подобно многим русским морякам того времени, довершал в Англии. Жизнь в этой стране, женитьба на англичанке (дочери капитана Чатамского порта, Елизавете Проби) сделали его "англичанином", а увлечение английской культурой иной раз ставилось ему даже в упрек. "Было время, - вспоминал сам Чичагов, - когда враги мои считали меня за англичанина, потому что я всегда восхищался порядком и законами англичан". В своей острой и пристрастной характеристике Чичагова, относящейся еще к 1808 г., Жозеф де Местр говорит: "Несомненно, что он вынес из Англии весьма заметное уважение к той стране <...> Иногда я называю его джентльменом противоположного берега, чтобы смешить его жену: она англичанка, и он страстно ее любит..." Таким же "англоманом" остался он и в более поздние годы. В рукописи самого Чичагова. оставшейся в его бумагах и озаглавленной "Сравнительная характеристика европейских народов", Англии посвящены восторженные строки, свидетельствующие, однако, что англоманство его носило трезвый и продуманный характер и было глубоким убеждением. Чичагов здесь пишет: "Национальное чувство англичан всегда клонится к тому, что хорошо и. следовательно, положительно, существенно и полезно. Отсюда истекают их положительные познания в философии, столь деятельно способствовавшей распространению истинного просвещения: оно произвело Ньютонов, Бэконов, Локков, великих писателей, великих государственных мужей, великих военных людей, истинно великих, достойных уважения и удивления, потому что способности их стремились единственно к добру и добродетели, и дарования их были изощряемы и применяемы к тому, что вообще было благотворно и полезно нации". Далее Чичагов с восторгом говорит, что "во всех классах этого народа каждый, в свою очередь, всегда обнаруживал эту общую склонность желать хорошего". "А так как, по их мнению, ничего нет лучше свободы, то и эта склонность у англичан была первым зачатком их духа независимости, продукты которого суть их конституция и либеральные законоположения". Все это, впрочем, отнюдь не препятствовало Чичагову любить свое отечество и желать ему блага и процветания. Характеристика русских и русского государства, данная Чичаговым в той же статье, рисует его как патриота-либерала, горячо убежденного в великом будущем своей родины, твердо верившего в грядущие преобразования России и торжество в ней новой гражданственности. "Увы, - писал он, - не увижу я собственными моими глазами мое отечество счастливым и свободным, по оно таковым будет непременно, и весь мир удивится той быстроте, с которою оно двинется вперед. Россия - империя обширная, но не великая, у нас недостаточно даже воздуха для дыхания. Но однажды, когда нравственная сила этого народа возьмет верх над грубым, пристыженным произволом, тогда его влечение будет к высокому, не изъемлющему ни доброго, ни прекрасного, ни добродетели..."
У своих современников Чичагов был известен как командующий Дунайской армией в войну 1812 г. и как человек, несправедливо обвиненный в том, что он "пропустил" Наполеона при переправе остатков французской армии через Березину. По этому поводу в России ходило много анекдотических рассказов, а иные из них, неблагоприятные для Чичагова, закреплены были в многочисленных карикатурах, эпиграммах, стихотворных экспромтах и т. д. Одна из таких эпиграмм сочинена была Державиным и ходила по рукам; в списках распространялась также басня Крылова "Щука и кот", в которой, по преданию, была изображена история спасения Наполеона I Чичаговым. Слухи о промахах Чичагова при переправе Наполеона через Березину достигли и Жуковского, в тот момент, когда он печатал своего "Певца во стане русских воинов", и поэт поспешил изъять из своего патриотического стихотворения посвященные Чичагову стихи. По этому поводу Жуковский писал А. И. Тургеневу (9 апреля 1813 г.): "Я некоторые места поправил... Жаль, если в этом экземпляре остался Чичагов, которого я выкинул после той проказы, которую он с нами сыграл на переходе Березиной". На распространившейся в то же время карикатуре изображен был Кутузов, тянущий одни конец сети, в которую неминуемо должен попасть Бонапарт; на противоположном конце сети сидит на якоре Чичагов, говорящий: "je le sauve" (я его спасаю), а Бонапарт в виде зайца проскальзывает за его спиною.
Не подлежит сомнению, что оскорбительные для Чичагова слухи (для чего, по мнению его позднейших биографов, не было достаточных оснований) и почти единодушное в русском обществе осуждение его действий при отступлении Наполеона из России сыграли не малую роль и принятом им решении покинуть родину. Чичагов вышел в отставку и уехал из Петербурга к мае 1814 г. С того времени он постоянно жил за границей, где воспитывались его подраставшие дочери. Он объехал Францию, Италию и Англию, нередко бывая в Лондоне и встречаясь здесь со своим старым другом С. Р. Воронцовым.
В 1817 г., находясь в Англии, Чичагов в свое оправдание издал книгу "Отступление Наполеона" ("Retreat of Napoleon". London, 1817), но задуман был этот труд еще за несколько лет перед тем, под свежим впечатлением описанных здесь событий и в связи с неумолкавшими сплетнями о нем, распространившимися за пределами России. Еще в 1813 г. Чичагов, уже тогда предполагавший составить историю русской кампании 1812 г., обращался к Джереми Бентаму с письмом, в котором просил совета по этому поводу. Биограф Бентама, Джон Бауринг, приводит отрывок из ответного письма Бентама к Чичагову, с замечаниями о том, что, по его мнению, требуется от подобного труда.
Именно об этих, столь понятных для Чичагова, событиях 1812 г. речь шла у него с Байроном на вилле Диодати около Женевы. Вот как рассказывает об этом Гобхауз: "11 сентября 1816 г. Сегодня адмирал Чичагов посетил лорда Байрона, чтобы представиться ему. Обращаясь ко мне, он произнес речь о нарушении уединения, которую он приготовил для лорда Байрона. Чичагов сказал, что всякий талант-не что иное, как расчет, и что Бонапарт обладал этим свойством в большей степени, чем кто-либо другой. Байрон хотел задать ему вопрос, почему он (подразумевая русских) дал Бонапарту возможность уйти из России. Ведь это именно адмирал дал ему возможность уйти, не преградив ему путь у Березины молдавской армией. Г-жа Кутузова заметила, что Витгенштейн спас Петербург, мой муж - Россию, а Чичагов - Наполеона. Он говорит, что приехал из Лозанны в Женеву, чтобы видеть Ферней. Совершил прогулку по берегу озера с лордом Байроном".
При всей своей краткости, запись дневника Гобхауза воссоздает перед нами эту примечательную встречу: Чичагов, приехавший из Лозанны, чтобы осмотреть "гнездо" Вольтера, и случайно узнавший, что неподалеку от Форнея живет другой вольнодумец нынешнего века, которому он и наносит визит; прогулка его совместно с Байроном по берегу Женевского озера, во время которой, нужно думать, беседа коснулась не только отступления Наполеона из России, но может быть и самой России и многих других вопросов, одинаково волновавших обоих собеседников, - все это представляет для нас двоякий интерес. Запись Гобхауза оставляет не вполне ясным для нас - сам ли адмирал сообщил Байрону слова Кутузовой о Витгенштейне, ее муже и о нем самом, или же Байрону они уже и ранее были известны, - несомненно лишь, что инициатива навести разговор на эту тему исходила от Байрона и что он, видимо, уже был знаком с именем своего русского собеседника и с его ролью в кампании 1812 г. Отметим также, что среди русских фамилии, перечисляемых седьмой песне "Дон Жуана" (строфа XV), упоминается и "Tschitschakoff". С другой стороны, любопытно, что описанная беседа относится к 1816 г. К этому времени Байрона как поэта в России еще знали мало: знакомство с ним началось у нас не ранее 1818 или следующего года, когда Батюшков писал о нем в Петербург из Италии, Д. Н. Блудов - из Лондона, а П. А. Вязелюкий - из Варшавы. До этого времени о Байроне знали только русский дипломаты и путешественники. Встречи Козловского с Байроном, несомненно, могли состояться только в светском кругу; интерес Козловского к поэту определился, вероятно, значительно позднее - в 1814 г. он мог лишь впервые познакомиться с сочинениями молодого Байрона, находившегося в зените своей славы; наконец, эти встречи происходили в Англии. Визит к Байрону адмирала Чичагова носит другой характер: он предполагает знакомство Чичагова с сочинениями Байрона до его посещения виллы Диодати, что и неудивительно в этом жившем вдали от родины "англомане", корреспондент Бентама и, вероятно, других английских деятелей, который, очевидно, внимательно следил за английской литературой своего времени.
3. Байрон, и Строгановы.- Москва и русские 1812 года в произведениях Байрона.- Россия и ее история в поэме Байрона "Дон Жуан". - Источники этой поэмы.- Россия в сатире Байрона "Бронзовый век".- Пушкин об отношении Байрона к России
О дальнейших личных встречах Байрона с русскими людьми мы располагаем лишь глухими и отрывочными сведениями. Однако его собственные писания свидетельствуют, что его интерес к России и русской истории не ослабевал. Москва упомянута в его ранней сатире "Поездка дьявола" ("A devil's drive", 1814), а в "Вальсе" ("The Waltz. An Apostrophic Hymn") говорится о "несожженной" Москве (unburnt Moscow) и Камчатке; сюжетом поэмы "Мазепа" избран эпизод из эпохи Петра - позднее, вслед за Байроном, столько раз повторенный в европейской поэзии; впоследствии в "Дон Жуане" (песни VI-X) Байрон заставил своего героя участвовать в штурме Измаила в рядах суворовской армии, а затем сделаться фаворитом Екатерины II. Байрон описывает здесь Петербург времен этой императрицы, упоминает Потемкина, Зубова, Шувалова и других вельмож и куртизанов. Для описания русского двора XVIII в. ему очень пригодилась книга Тука о Екатерине и особенно известные "Memoires secretes" дипломата Массона, разоблачавшие закулисные тайны русского двора. Отсюда Байрон взял и упоминание об известной кузине Орлова, Протасовой, награжденной нескромной кличкой "испытательницы" (l'eprouveuse), и слух о том, что полюбившийся императрице Ланской был отравлен Потемкиным, ревниво оберегавшим свои права первого поверенного императрицы. В предшествующих песнях Байрон особенно широко использовал книгу Кастельно ("Essais sur l'histoire de la Nouvelle Russie". Paris, 1820, 3 V.), взяв оттуда и перечень некоторых фамилий, "которые полны слогов таких, что невозможно выговорить их" (песнь VII, строфа XV), оканчивающихся на: .."ischkin", "ouschkin", "iffskchy", "ouski", всех этих - Rousamouski, Strongenoff, Sherematoff, Mouskin-Pouskin
And Tschitsshakoff and Roguenoff, and Chokenoff
And others of twelve consonants apiece...
Как отметил уже английский комментатор Байрона, поэт варьирует здесь стихи Роберта Саути в его "March to Moscow" (1813):
Oscharoffsky and Rostoffsky
And all the others that end in offsky,
но едва ли традицию не следует возводить еще глубже, к анекдотам о Вольтере, поднимавшем на смех странно звучавшие, на его слух, русские фамилии. Впрочем, некоторые имена, вероятно, взяты Байроном не механически из указанной книги, но говорили ему нечто и сами по себе. Упоминание Чичагова в этом перечне мы уже отметили; укажем и на имя "Strongenoff", так же появившееся здесь не случайно и, быть может, напоминавшее Байрону его испанские впечатления в период первой поездки па Восток или его венецианские встречи.
В строфе CXLIX первой песни "Дон Жуана" донья Джулия, доказывая свою верность ревнивому мужу и перечисляя своих поклонников, вменяет себе в особую заслугу, что она устояла против обольщения графа Строганова и "заставила его напрасно страдать":
The Count Strong-Stroganoff I put in pain...
Байрон играет словами: Stroganoff ассоциируется у него со словом strong - энергичный, сильный, резкий, решительный; поэтому Strongenoff в XV строфе седьмой песни есть не простое искажение или ошибка памяти. О каком Строганове здесь идет речь? Старая традиция утверждает, что Байрон говорит о графе Григории Александровиче Строганове (1770-1857), бывшем русским посланником в Испании (1805-1810), Швеции (1812-1816) и Турции (1816-1822). Это утверждал, например, П. И. Бартенев, писавший, что "в молодые годы, красавец собою" Г. А. Строганов, в бытность свою посланником в Испании, "пользовался такой известностью своими успехами в полях Цитерейских, что у Байрона в "Дон Жуане" мать хвастает перед сыном своею добродетелью (на самом деле - жена перед мужем) и говорит, что ее не соблазнил даже и граф Строганов". В московском издании дневника Пушкина В. Ф. Саводник, со своей стороны, относит упоминание "Стронгенова" в "Дон Жуане" к Г. А. Строганову и утверждает: "Слава его дон-жуанских подвигов была настолько велика, что Байрон даже увековечил его в своей знаменитой поэме"; того же мнения придерживался Б. Л. Модзалевский, намекнувший и на то, что такое отождествление байроновского Strong-Stroganoff с Г. А. Строгановым могло делаться и русскими современниками Байрона, например, Пушкиным (бывшим - через Загряжских - свойственником Г. А. Строганова), которому первая песнь "Дон Жуана" была известна уже с 1821 г. Таким образом, возникло предположение, что Байрон слышал о Г. А. Строганове еще в бытность свою в Испании (1809). Не может быть сомнений, что упоминание Строганова в "Дон Жуане" - отзвук мадридских похождений Григория Александровича, однако есть основание предполагать, что Байрон в Венеции встречался с другим Строгановым, Александром Григорьевичем, сыном предыдущего. Об этом рассказывает замечательный "Разговор Гете с русским графом С.", напечатанный В. Бидерманом. Внимательный анализ этого разговора, произведенный С. Н. Дурылиным, привел его к заключению, что "русский граф С." - именно Александр Григорьевич Строганов, хотя он принужден был заметить: "У нас нет прямых сведений о знакомстве Александра Строганова с Байроном, но нет, с другой стороны, ни фактических, ни биографических, ни хронологических препятствий для такого знакомства". Нет никаких данных об этом и в специальной байроновской литературе, в которой, кстати сказать, слишком мало использован этот любопытнейший разговор Гете с русским аристократом о знакомстве с английским поэтом.
Автор этого разговора, между прочим, записывает: "Накануне вечером я обронил несколько слов о Байроне, которые не только свидетельствовали о моем близком знакомстве с таким особенным человеком, но позволяли предполагать, что у меня был случай ближе узнать его мнение о Гете. Действительно, в Венеции имел я счастье неоднократно насладиться дружественной беседой Байрона; после этого мне удалось не без труда отстранить - по крайней мере относительно меня - то предубеждение его против всех русских, которое поддерживалось тогда в нем греческими делами". Здесь, несомненно, ошибка памяти: венецианский период жизни Байрона окончился до начала греческого восстания, следовательно, "предубеждение" Байрона против реакционной политики Александра I, в частности против двойственно позиции в греческом вопросе, с особенной резкостью сказавшееся после Веронского конгресса, в данном случае должно было иметь иные основания, - какие, об этом мы уже говорили выше. Впрочем, автор "Разговора" тут же оговаривается, что его сближение с Байроном имело другие поводы и что политика и дипломатия не исчерпывали их бесед. "Как ни странно, не мои лучшие свойства примирили его с моею национальностью, но мой тогдашний характер необузданного сорванца, который с величайшим равнодушием наслаждался жизнью и искусством ради того только, чтобы наслаждаться, не заботясь о расширении своих способностей и знаний. Байрон обращался со мной обыкновенно как с невоспитанным ребенком, а во время своих капризов и чудачеств - даже с резкостью, но вместе с тем он оказывал мне, не имея причины опасаться от меня двуличия, больше доверия, чем любому из тогдашних своих знакомых, которые часто окружали его из эгоистических побуждений. Наше знакомство было не общением одинаково настроенных поклонников искусства, а общением жадных к жизни bonvivants, которые никогда не насыщаются. Я познакомился благодаря этому со многими особенностями частной жизни Байрона, сообщение которых воспринято было Гете с живейшим интересом и прервало самохарактеристику моего хозяина, чтобы еще больше ее усовершенствовать".
Дальнейшее содержание "Разговора" не дает нам никаких данных для датировки дружеских встреч Байрона с автором записи, русским аристократом, которого он встретил в Венеции; трудно допустить, что они были многократными и содержательными, так как в этом случае они должны были оставить какие-либо следы в дневниках пли переписке Байрона. Это было одно из многих светских знакомств, состоявшихся в период его венецианской жизни; каких же именно тем касались беседы Байрона с А. Г. Строгановым, - если именно он имеется здесь в виду, - ясно и из самого "Разговора": "У Байрона был обычай: в наши постоянные разговоры о прекрасных женщинах, которых оба мы с жаром преследовали, вплетать промежуточные речи об искусстве, - благодаря этому он вовлек меня в круг своих мнений и сделал то, что я был в состоянии удовлетворить любопытство Гете. Поэтому я сказал ему, что действительно так счастлив, что могу дать ему некоторые разъяснения по поводу мнений Байрона о нем, - и я дал resume моих бесед с Байроном об искусстве и литературе, в которых Гете часто являлся главной темой". К сожалению, это resume вошло в упомянутый "Разговор" лишь одной своей частью - суждениями, которые Байрон высказал по поводу некоторых произведений Гете, - суждениями острыми, порой блестящими и вполне согласующимися с другими, известными нам, высказываниями Байрона о творце "Фауста", что, со своей стороны, подтверждает аутентичность записи; остальная часть бесед с Байроном "об искусстве и литературе" остается нам неизвестной. Естественно предположить, что затрагивались и другие вопросы - о России в первую очередь. Намек автора "Разговора" на "предубеждение" Байрона "против всех русских", которое ему удалось отстранить "не без труда", говорит о многом: очевидно, к России беседа возвращалась неоднократно; Байрона приходилось переубеждать или, во всяком случае, ближе познакомить с Россией времен Александра 1. В состоянии ли был это сделать молодой Строганов, были ли его доводы достаточными для "переубеждения", нашел ли в нем мятежный поэт сторонника своих тогдашних политических принципов и симпатий, - ничего этого мы не знаем. Вполне естественно было бы, однако, предположить, что знакомство с молодым Строгановым обновило у Байрона воспоминания о мадридских любовных авантюрах отца его собеседника - дипломата, что именно поэтому имя Строганова попало в первую песнь "Дон Жуана", начатую летом 1818 г.; что, наконец, в том же круге представлений о Строганове-отце находилось и основное впечатление о Строганове-сыне, который сам себя назвал в "Разговоре" "необузданным сорванцом, который с величайшим равнодушием наслаждался жизнью и искусством". Достоверно лишь одно - "переубеждение" Байрона в мнении относительно русских на этот раз было достигнуто в частном, но не в общем смысле; Байрон допустил в свой круг одного из них, согласился, быть может, с некоторыми из приведенных им доводов о недопустимости огульного осуждения страны и народа или отождествления правительственной политики с общественным мнением, но своего старого предубеждения против русского правительства и царя он не переменил.
Остро звучит русская тема в политических сатирах Байрона. В сатире "Бронзовый век" (написанной в 1822 г. по поводу собравшегося вершить судьбу Испании Веронского конгресса), где ненависть к "Священному союзу" достигает особенной силы, Байрон с возмущением говорит о крепостном праве в России, попутно вспоминая и наполеоновские походы и пожар Москвы. Правда, именно в описании московского пожарища Байрон внезапно изменяет свой обличительный тон и, проникнувшись величием жертвенного подвига русского народа, торжественно славит русскую столицу, у которой нет соперников в веках. Затем он вновь обрушивается на двуличную политику русского правительства в греческом вопросе, а изображению императора Александра I отводит немало строф, полных ядовитых насмешек и грозных предостережений; в результате получается портрет, многими чертами сильно напоминающий известные стихи Пушкина:
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой...
- и такое сходство едва ли нужно было бы объяснять случайностью: знакомство Пушкина с отзывами Байрона об Александре I не только в "Бронзовом веке" (эту сатиру Пушкин мог знать еще в одесский период), но и в строфах "Дон Жуана" (песнь шестая, строфы XCIII-XCV; песнь четырнадцатая, строфа XXXIII) удостоверяется рядом параллелей и, прежде всего, конечно, криптограммой сожженной 10-й главы "Евгения Онегина".
Эти и подобные им стихи Байрона, конечно, не могли появиться в России. Их, как и "русские" песни "Дон Жуана", читали у нас контрабандой, большой частью во французских переводах, случайно проскочивших сквозь таможенные преграды, - кто с негодованием верноподданных, а кто с радостью и надеждой на вольное слово о России и его роль в мечтавшихся преобразованиях русского государства. В 20-х годах П. А. Вяземский, наряду с будущими декабристами, был одним из первых, кто правильно понял у нас политическое значение поэзии Байрона и дал оценку его творчеству именно с этой стороны: "Байрон, который носится в облаках, спускается на землю, чтобы грянуть негодованием в притеснителей, и краски его романтизма сливаются часто с красками политическими", - писал он А. И. Тургеневу еще в 1821 г. Автор "Негодования", которое наряду с пушкинской "Вольностью" было одним из ранних вкладов в русскую поэзию, "декабрист без декабря", так остро и живо интересовавшийся общественно-политической борьбой в Европе и России, Вяземский не мог не обратить особого внимания и на сатиры Байрона, направленные против "Священного союза" и его реакционных деятелей. Прочтя "Бронзовый рек" во французском переводе, Вяземский с восторгом отзывается о нем в письме к Л. П. Тургеневу: "Вот хлещет всех жильцов по этажам глупости, начиная от низменных Красовских до тех, которые - уж выше, кажется, нельзя". Любопытно, что миленькая заметка Пушкина, которую он напечатал в "Северных цветах" на 1828 год, включив ее в свои "Отрывки из писем, мысли и замечания", замечала уже целую программу исследования об отношении Байрона к России: "Байрон говорил, что никогда не возьмется описывать страну, которой не видал бы собственными глазами. Однако ж в Дон Жуане описывает он Россию; зато приметны некоторые погрешности противу местности. Например, он говорит о грязи улиц Измаила: Дон Жуан отправляется в Петербург в кибитке, беспокойной повозке без рессор по дурной, каменистой дороге. Измаил был взят зимою, и жестокий мороз. На улицах неприятельские трупы прикрыты были снегом, и победитель ехал по ним, удивляясь опрятности города: "Помилуй бог, как чисто!"... Зимняя кибитка не беспокойна, а зимняя дорога не камениста. Есть и Другие ошибки, более важные. Байрон много читал и расспрашивал о России. Он, кажется, любил ее и хорошо знал ее новейшую историю. В своих поэмах он часто говорит о России, о наших обычаях. Сон Сарданапалов напоминает известную политическую карикатуру, изданную в Варшаве во время суворовских войн. В лице Нимврода изобразил он Петра Великого. В 1813 году Байрон намеревался через Персию приехать на Кавказ".
Мы легко догадаемся теперь, почему эта маленькая альманашная заметка Пушкина в условиях цензурного режима 20-х годов и не могла бы развернуться в серьезную журнальную статью, но для нас не вполне ясно, какие соображения руководили Пушкиным при ее напечатании. Трудно сказать, была ли она помещена в его "Отрывках из писем, мыслях я замечаниях" (кстати сказать, но форме своей аналогичные байроновским "Detached Thoughts") для напоминания русскому читателю о запретном для него в этой части "Дон Жуане" Байрона, должна ли была служить свидетельством его хорошего знакомства с этой поэмой, или дана была ради сознательной попытки хоть несколько реабилитировать Байрона в глазах русских официальных кругов? (ср. слова Пушкина о хорошем знакомстве Байрона с Россией и о любви к ней). Последнее, впрочем, было бы в 20-х годах вовсе безнадежным делом: репутация Байрона как поэта, и ранее вызывавшая подозрения русской цензуры его "вольнолюбивыми" и "безбожными" автопризнаниями, весьма скомпрометированная его отзывами о русском императорском доме - от Петра I до Александра I,- стала у нас и вовсе одиозной с того времени, как Байрон открыто вступил на путь политической деятельности. Поддержка Байроном итальянских карбонариев, его участие в борьбе греческого народа за свою независимость сделали поэта объектом негласных наблюдений русского Министерства иностранных дел.
С начала 20-х годов поэзия Байрона - "Звук новой чудной лиры", по слову Пушкина, - приобретает в России особую известность. В письмах писателей то и дело мелькает его имя с отзывами с его произведениях; о них беседуют в дружеских кружках; быстро растут их переводы, стихотворные и прозаические, вначале с французского, но затем, все чаще, и с английского подлинника; в журналах печатаются статьи о Байроне, появляются его русские портреты. До самого Байрона доходят известия о русских переводах его произведений; по крайней мере, об этих переводах, с чужих слов, говорил он в Пизе капитану Т. Медвину в 1821-1822 гг.: "Многие из моих сочинений показались в датских, польских и даже русских одеждах. Последние переводы, сделанные с французских, должны быть водяны".
В шестой песни "Дон Жуана" (строфа XCIII Байрон свидетельствует, что его интересовала но только Россия Екатерины II, но что он чутко улавливал и новые веяния, достигавшие столицы северной державы:
... and now rhymes wander
Almost as far as Petersburgh. and lend
A dreadful impulsu to each loud meander
Of murmuring Liberty's wide waves, which blend
Their roar even with the Baltic's...
(... Теперь рифмы странствуют до самого Петербурга
и дают грозный порыв каждому шумному изгибу рокочущих
волн Свободы, которые смешивают свой рев даже с волнами Балтики...)
Английские комментаторы "Дон Жуана" оставляют без пояснений эти примечательные строки. "Что значат эти слова? - спрашивает Н. Я. Дьяконова. - Услышал ли Байрон о том, что его вольнолюбивые стихи достигли невских берегов? Дошли ли до него слухи о тайных обществах в России? На это пока трудно дать ответ". Однако, с нашей точки зрения, поставленные вопросы и сейчас уже поддаются удовлетворительному решению. Что Байрон знал о русских переводах его произведений, живя в Италии, свидетельствует, как мы видели выше, капитан Медвин, и это тем более правдоподобно, что Байрон интересовался современной русской поэзией, читал "Российскую антологию" Дж Бауринга и помнил, в частности, имя "русского соловья" - Жуковского. Слухи о тайных обществах в России до Байрона едва ли могли дойти, но он безусловно знал о русских тайных и явных доброжелателях итальянских карбонариев и имел случай слышать оппозиционные речи из уст таких либеральных русских деятелей, какими были дипломат П. Б. Козловский или "земноводный" адмирал К. В. Чичагов.
Усиление интереса к Байрону в русских читательских кругах стояло в прямой связи с обострением общественно-политического недовольства в широких кругах русской дворянской интеллигенции и активизации тайных обществ, вроде Союза Спасения и Союза Благоденствия. Произведения Байрона итальянского периода находили у нас быстрый отклик прежде всего потому, что они будили вольнолюбивые мечтания, отвечали нарождавшимся общественным оппозиционным настроениям. Известную роль играло в этом обстоятельстве и обилие русских в Италии в начале 20-х годов, которые отмечали его популярность среди итальянцев, записывали рассказы о нем, узнавали многое о его жизни, все ближе сплетавшейся с общественно-политической борьбой. Недаром и Онегин в юности вел "мужественный спор о Байроне, о карбонарах". В это же самое время в реакционных русских кругах, параллельно с ростом влияния и популярности Байрона, усиливалось настороженное отношение к нему, отчасти поддержанное европейской реакционной печатью и тем более крепнувшее, чем очевиднее становилась его роль в итальянском революционном движении. Одним из ранних, но чрезвычайно характерных отрицательных отзывов о Байроне явилось известное письмо обскуранта Д. П. Рунича к издателям "Русского инвалида", датированное 22 апреля 1820 г. и вызванное появившейся в "Инвалиде" статьей о Байроне, переведенной из парижского журнала "Conservateur". Рунич удивляется появлению этой статьи в русском переводе и выражает сомнение по поводу того, насколько назидательными для подрастающего поколения смогут явиться "суждения французского журналиста-философа об английском безбожнике-стихотворце".
Злобная характеристика Байрона, содержащаяся в этом письме, стремилась внушить недоверие к общей философско-этической основе сочинений Байрона, скомпрометировать его, как поэта неблагонадежного и вредного в политическом смысле. Аналогичные выводы вскоре и действительно были у нас сделаны и вызнали ряд охранительных мероприятий со стороны полицейских властей. Из опубликованных рапортов "особой канцелярии" Министерства внутренних дел, наблюдавшей за привозимыми из-за границы книгами "политического, исторического и романического содержании". видно, что ужо в 1821 -1822 гг. большинство произведений Байрона подвергалось строжайшему запрещению. Все вновь выходившие издания Байрона немедленно же вносились в секретные перечни "произведений, запрещенных цензурным комитетом Министерства внутренних дел", не допускались к ввозу из-за границы, к продаже и тем более, к переводу; последние разрешались лишь в исключительных случаях и с чудовищными цензурными искажениями; так, в 1826 г. И. И. Козлову было разрешено издание его перевода "Абидосской невесты" только лишь после ряда изменений в тексте и с комментариями цензора Красовского, внесенными и примечания. "Дон Жуан" в полном русском переводе не мог появиться у нас вплоть до XX в., а еще в 1847 г. в переводе В. И. Любич-Романовича "русские песни" поэмы переведены были в смысле, совершенно обратном авторскому тексту. Характерно, что в 20-х годах при переводе из Байрона "безусловному устранению" подлежали даже самые отдаленные намеки на явления современности и что в затруднительных случаях цензурный комитет, в порядке "консультации", обращался с соответствующими запросами в Министерство иностранных дел. Такой случай произошел, например, с прологом к "Гяуру", перевод которого цензурный комитет не решился пропустить потому, что усмотрел в нем "поощрение восстать против турок". Заслушав об этом (22 марта 1827 г.) доклад цензора Гаевского, Главный цензурный комитет "признал за лучшее" немедленно довести до сведения министра о "сомнительном по политическим отношениям" произведении. Однако А. С. Шишков отказался взять на себя разрешение этого вопроса и, в свою очередь, обратился к министру иностранных дел гр. К. В. Нессельроде. Последний, в специальном отношении от 6 мая 1827 г. (за № 639) "касательно перевода на русский язык пролога из поэмы "Джаур" изъяснил, что "таковые воззвания" Байрона, "несообразные ни с духом времени, ни с обстоятельствами", он "находил бы полезнейшим не выпускать в свет".
Это был уже не первый случай, когда Нессельроде, с 1816 г. ведавшему дипломатическими сношениями Российской империи, приходилось в своей служебной практике встречаться с именем Байрона. Он не мог не знать, что с ведома Меттерниха австрийская полиция организовала в Северной Италии систематическую слежку за Байроном, что его образ жизни, знакомств, встречи и переписка в Милане и Венеции, Равенне и Пизе служили предметом обсуждения в правительственных австрийских канцеляриях, вызывали десятки рапортов специальных тайных агентов, устанавливавших его связь с "карбонариями" и выслеживавших каждый его шаг. Нессельроде попытался организовать нечто подобное с помощью русских дипломатических представителей за границей. В делах Государственного архива внешней политики 1822-1824 гг. сохранился ряд таких донесений о Байроне, из которых можно извлечь ряд любопытных штрихов для его биографии, но в особенности интересных потому, что они дают понятие о той общественно-политической роли, какую в представлении русских властей играл мятежный английский поэт.
Естественно, что первые из сохранившихся русских дипломатических донесений о Байроне итальянского периода отличаются краткостью, неполнотой и не сообщают чего-либо нового для истории его жизни и творчества: Байрон пизанского и равеннского периодов, Байрон-карбонарий представлял еще только относительный интерес для русского правительства. Тем не менее быстрый рост карбонаризма в папских владениях занимал большое место в донесениях из Рима русского посланника А. Я. Италинского 1820 г., которому безусловно известны были донесения о Байроне папской полиции, ни на минут у не упускавшей из виду этого "опасного лица", "ярого возмутителя спокойствия", "первого революционера Равенны", который не без основания считался одним из вождей карбонарских отрядов, в частности, отряда "Американских стрелков".
Вступление Байрона в ряды греческих инсургентов, активное и вполне открытое вмешательство в дела формировавшегося греческого правительства и будущего независимого греческого государства в гораздо большей степени активизировали интерес к нему русского Министерства иностранных дел: роль Байрона в греческой войне связывалась уже и с русской политикой в греческом вопросе, и с русско-английскими взаимоотношениями 20-х годов. Поэтому с момента переезда Байрона в Грецию и вплоть до его смерти в Миссолунги количество донесений о нем, посланных в русское Министерство иностранных дел, резко увеличивается: о Байроне пишут Нессельроде и с Ионических островов и из Константинополя, входя во все детали его частной жизни и военных предприятий. Не все эти донесения представляют нам достоверные или новые факты, которыми сможет воспользоваться биограф Байрона, но все они, в общем, дают нам новый и еще не использованный материал. Восхищенному вниманию, с которым русское общество следило за действиями Байрона в пользу греческой свободы, и восторженным откликам о нем русских поэтов противостояла, таким образом, не только сложная сеть цензурных запретов и охранительных мероприятий, но и вдохновлявшая их информация Министерства иностранных дел. Это была настоящая борьба общественного мнения и правительственных постановлений за и против Байрона, борьба явных и тайных общественных сил, которую живо ощущали современники и недооценили последующие исследователи политической и культурной жизни 20-х годов. В свете этой борьбы становятся более понятными и явная недоговоренность многих русских критических статей о Байроне, искаженность русских переводов из Байрона того времени, страстный характер полемики и даже, быть может, некоторые детали личных взаимоотношений. Гр. М. С. Воронцов хорошо знал, какой тяжелый удар он наносил Пушкину, когда в марте 1824 г. писал Нессельроде, как его непосредственному начальнику, просьбу удалить его из Одессы, где ему кружат голову его восторженные поклонники, "между тем как он, в сущности, только слабый подражатель не совсем почтенного образца - лорда Байрона". В тот момент, когда Нессельроде отвечал Воронцову на эту просьбу, в Министерстве иностранных дел накопилось уже порядочное количество донесений об этом "не совсем почтенном образце" опального русского поэта, и отношение русского министра иностранных дел и к этому "образцу", и к его подражателю" едва ли сильно отличалось от отношения к ним обоим правителя Новороссийского края.
Из кн.: Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи (XVIII - 1 половина XIX вв.) // Литературное наследство, 89. Т. 91. М., 1989